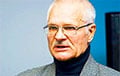Серпом по яйцам
10- Владислав Иноземцев
- 29.03.2025, 18:41
- 13,002

Фото: Getty Images
Трамп становится угрозой для стабильности американской и глобальной экономики.
США подошли к 2025 году со значительными достижениями. Экономика при Джо Байдене росла в среднем на 3,2% в год; индекс S&P500 прибавил более 55%, а капитализация всего американского фондового рынка достигла рекордных $63 трлн, или 210% ВВП; инфляция замедлилась до 2,9%, и Федеральная резервная система (ФРС) начала снижать учетную ставку; безработица упала с 6,7 до 4,1%. Но остались проблемы, которые и определили политику нового президента.
Бюджетный дефицит в 2022–2024 годах рос весьма устойчиво и в 2025 году превысит $2 трлн, что соответствует его совокупному размеру в 2016–2018 годах. С ним растет и госдолг, а его обслуживание становится все дороже. Уже в этом году оно, согласно бюджетной проектировке, потребует бóльших средств, чем расходы на оборону. Исправить ситуацию можно было бы, снизив доходность по казначейским облигациям (Treasuries), к чему недавно даже были предпосылки. Однако у Трампа другая стратегия.
Президент США и его соратники предполагают, что сокращение бюджетного дефицита может быть обеспечено снижением расходов (отсюда и знаменитый DOGE) и повышением доходов за счет «нетрадиционных», прежде всего тарифных, сборов. Так, Илон Маск обещает снизить госрасходы на $1 трлн или даже на $2 трлн в год, что составит, соответственно, 14–28% от плана на 2025 год. И получить до $300 млрд пошлин, то есть 7,5% текущей стоимости импорта. Звучит красиво, но есть одна проблема: это невыполнимо.
Трамп против рынка
Диссонанс между целями и возможностями Трампа стал понятен практически сразу. Он воплотился в крайне импульсивных решениях, ударивших по фондовому рынку и потребительским ожиданиям. Президент США объявил о новых пошлинах на товары не только из Китая, но и из вполне дружественных Канады, Мексики и ЕС. Причем эти ограничения то вводились, то откладывались, то корректировались на ходу, что вызывало постоянные волнения на рынках.
В результате, если в XXI веке средний рост индекса S&P500 за два месяца после вступления нового президента в должность составлял 2,9%, то в этом году мы видим падение более чем на 7,2%. Этот тренд кажется мне опасным.
Котировки американских компаний выглядят завышенными, их доля в глобальных показателях капитализации превышает уровень начала 1990-х годов (времен знаменитого «однополярного момента») и более чем вдвое выше той доли, которую в конце прошлого года имели все европейские страны, КНР и Гонконг, вместе взятые. Так что любой очередной приступ распродажи акций может дать сигнал к масштабному падению.
Кроме того, потребители правильно оценили, что рост пошлин — это предпосылка к ускорению инфляции в США. Оценка населением ожидаемого темпа роста цен в ближайшие 12 месяцев выросла до 3,1%, что исключает снижение ставок ФРС, столь необходимое и для обеспечения роста, и для выправления бюджета. Хотя проценты по кредитам (например, ипотечным) в последний год падали, что породило умеренный оптимизм, тренд может развернуться и тут.
При повышении пошлин следует ждать, по крайней мере в ближайшие пару лет, не столько роста индустриального производства в самих США за счет волны возврата заводов и фабрик из Китая, сколько повышения цен американских товаров вслед за подорожанием импорта. Именно так уже произошло в 2017–2019 годах из-за того, что Трамп тогда повысил пошлины.
Собственно говоря, здесь таится главная проблема всей трамповской меркантилистской политики. Возможен ли экономический рост в условиях тарифных барьеров и могут ли они способствовать возвращению производств в Америку?
Тарифы бьют по США
Традиционно считается, что международная торговля приносит выгоду всем участникам, так как позволяет реализовать конкурентные преимущества каждой страны и тем самым ведет к снижению издержек. Это правильное суждение. И США на протяжении десятилетий оставались, вероятно, основным бенефициаром глобализации как потребитель массовых товаров. Но при этом сдавали свои позиции в качестве производителя. Их доля в мировом промышленном производстве с 1985 по 2021 год упала с 34% до менее чем 16%. Трамп хочет развернуть этот тренд, но пытается найти слишком простой способ.
Деиндустриализация США и Запада в целом началась еще в 1980-е годы, когда появились «новые индустриальные страны» с крайне низкой стоимостью трудовых ресурсов. В США, для сравнения, выплаты работникам доходили до 40% в себестоимости товаров.
Стремясь обрести максимальную выгоду, американские компании переносили производство в Юго-Восточную Азию или вообще отказывались от выпуска определенных видов продукции. Но в последние годы технологический прогресс меняет организацию производства: роботизация и автоматизация сокращают трудозатраты, а налоги и тарифы на энергию и инфраструктуру в разных странах стремительно сближаются.
Не исключено, что в относительно близком будущем западные страны могут начать наращивать свой индустриальный потенциал. Но для этого правильнее было бы становиться более инвестиционно привлекательными через налоги и технологическое развитие, чем пытаться отгородиться от мира тарифами в стиле конца XIX века.
Конечно, до 1880-х годов основным источником наполнения американского бюджета были пошлины. Но не надо забывать и того, что тогда расходы бюджета составляли всего 2,3–2,7% ВВП, а в наши дни достигли 25%. Поэтому, чтобы обеспечить пропорции доходов того времени, средний тариф на все импортные товары должен составлять не менее 100%, что попросту невозможно в современных условиях.
Экономия грозит рецессией
Вторая компонента трамповской экономической политики — сокращение госрасходов через увольнения десятков, если не сотен тысяч федеральных служащих — также не выглядит многообещающей. Даже если не затрагивать проблему протестов в обществе, подобная реформа создаст угрозу потери работы для гораздо большего количества людей, что обострит конкуренцию на рынке труда и заложит четкий тренд на снижение потребительских расходов и замедление роста. Как минимум в краткосрочной перспективе — до тех пор пока последствия этих мер не будут осмыслены населением. Замечу: некоторые проявления такой замедляющейся динамики фиксируются текущей статистикой розничных продаж.
В США доля потребительских расходов в ВВП одна из самых высоких в мире — почти 69%. Остановка их роста чревата большими макроэкономическими проблемами.
В ближайшие пару месяцев мы увидим, насколько устойчива американская экономика к подобным испытаниям. Важнейшими индикаторами тут станут:
поведение фондового рынка и, в частности, его способность удержаться на нынешних уровнях и не перейти от коррекции к спаду;
динамика ставки по ипотечным и потребительским кредитам;
показатели помесячного дефицита федерального бюджета;
статистика роста цен.
Вероятность того, что шаги Дональда Трампа спровоцируют рецессию, постоянно растет. И тут надо напомнить, что избиратели голосовали за республиканца в ожидании экономического чуда, так что его провал может спровоцировать даже бóльшую политическую напряженность, чем отмена DEI (Diversity, equity, and inclusion — программы разнообразия, равенства и инклюзивности, отменены Трампом в первый же день президентства) или неудачи во внешней политике.
Остальной мир тоже под угрозой
На глобальную экономику тоже, как ни странно, больше влияет внутренняя, а не внешняя политика США. Пошлины, которые Трамп уже ввел и еще введет, не кажутся мне главным источником проблем. В 2024 году торговля США с остальным миром оценивалась в $7,3 трлн, тогда как экспорт и импорт из всех стран превысил $65,4 трлн. Товарооборот США с ЕС составлял $976 млрд, с Китаем — $582 млрд (с 2022 по 2024 год он снизился почти на четверть), так что даже 25-процентные пошлины и сокращение товарооборота на этих направлениях еще на 20–25% не станут катастрофой ни для одной из трех крупнейших экономик мира.
В то же время конфронтационная политика Трампа может вызвать серьезный экономический спад в Канаде (ее экспорт в США равен 19% ВВП страны) и настоящий апокалипсис в Мексике (где этот показатель достигает 36%). Иначе говоря, мне пока кажется, что торговые войны окажут серьезное влияние на сами Соединенные Штаты и на североамериканский континент, а не на остальной мир (если сравнить Китай и ЕС с Канадой и Мексикой по отношению их экспорта в США к ВВП, цифры составят всего 2,33% и 2,98%, и с учетом разветвленной сети партнеров Китая и Европы сокращение их экспорта в Америку может быть компенсировано ростом на других направлениях).
Судя по анонсированным Белым домом мерам, США при Трампе хотят быть более независимыми от мира в торговом отношении — и это может быть достигнуто без катастрофических последствий для глобализации, так как в сфере международной торговли Соединенные Штаты уже давно не являются гегемоном.
Сегодня мир сильно отличается от, например, эпохи «азиатского» финансового кризиса 1997–1998 годов, когда экспорт в США был критически важен для большинства развивавшихся индустриальных экономик. Сейчас торговые отношения намного более диверсифицированы. При этом, как мы видим, Вашингтон вовсе не собирается отказываться от доминирующего статуса в сфере международных финансов — и тут политика Трампа, явно выступающего против санкций и болезненно относящегося к перспективам создания новых глобальных валют за пределами западного мира, выглядит скорее позитивной, чем рискованной.
Для США сегодня крайне важно не допустить того, что можно назвать «альтернативной глобализацией» (новой системы международных расчетов в обход доллара и выстроенной вокруг него финансовой инфраструктуры) и разочарования в себе как investment desti-nation (успехи американского бизнеса на протяжении десятилетий основаны на легкости привлечения капитала, высоких оценках компаний и гарантиях неприкосновенности собственности).
Как главный игрок в сложившейся на протяжении последних десятилетий мировой экономической системе, США куда более зависят от сохранения этого статуса, чем от миллиардов долларов, которые Белый дом может получить от пошлин и ограничений, вводимых с недавнего времени. Насколько это понимают Трамп и его советники — пока большой вопрос.
Подводя итог, стоит отметить: Соединенные Штаты вполне могут стать в ближайшие годы «слабым звеном» в мировой экономике, которым они давно уже (если не сказать — никогда) не были. Если Трамп преуспеет в попытке увеличить степень экономической автаркии, то это нанесет больший вред США, чем остальному миру (или, если быть более точным, нанесет вред миру только как следствие ущерба для самой Америки).
Сможет ли нынешняя команда добавить что-то к своим экзотическим рецептам, что могло бы нивелировать их негативный эффект? До сих пор мы слышали только о попытках создать фонд из криптовалютных активов для решения проблемы государственного долга (что пока неочевидно, так как совокупная капитализация этого рынка в 12–14 раз меньше объема обязательств федерального казначейства); о выводе на рынок «коммерческих грин-карт» по цене в $5 млн за каждую (на днях было объявлено о якобы успешной продаже первой тысячи таких документов, но для закрытия долгов нужно реализовать их 6–8 млн); и также (что, на мой взгляд, могло бы явиться самым перспективным шагом) о ликвидации IRS (налоговой службы США) и отмене подоходного налога и налогов на прирост капитала (такой шаг вызвал бы дикий вой всех политиков левого толка, но мог бы действительно превратить США в первый в мире пригодный для постоянного проживания офшор и кратно увеличить приходящие в страну инвестиции).
Каждая из этих инициатив (а особенно последняя, тем более что первые проекты соответствующих законов уже циркулируют в Конгрессе) намного предпочтительнее, чем добровольная деглобализация, последствия которой пока выглядят крайне неоднозначными.
Владислав Иноземцев, The Insider